«Бессмертный полк» как место памяти
Причиной для написания этого текста стало наше желание осмыслить собственный опыт. А потому, чтобы быть понятыми, нам понадобится прибегнуть здесь к помощи какого-то уже разработанного терминологического аппарата.
Наиболее подходящей для наших задач концепцией является концепция «мест памяти», которая вводится в исторический дискурс таким современным французским исследователем, как Пьер Нора. Стоит, однако, отметить, что в рамках данного текста нами будет рассмотрен взгляд Нора актуальный только на момент его участия в написании книги «Франция-память».
Это замечание является важным, так как в дальнейших своих работах Пьер Нора, по справедливому замечанию П. Рикера, существенно меняет смысловой аспект понятия «место памяти».
Избрав подходящую для нашего дальнейшего размышления размерность и вектор развития, мы можем с чистой совестью приступать к содержательной части нашей работы. Итак, в статье «Между памятью и историей. Проблематика мест памяти», вошедшей в книгу «Франция-память», Нора констатирует ускорение исторического процесса, который можно расшифровать как убыстряющийся ход времени, ощутимый повсеместно.
У современного человека, отмечает Нора, возникает доступ к осознанию себя под знаком завершенности чего-то изначального. Интерес к местам памяти (местам убежища памяти) связан именно с таким особым поворотным моментом истории. В этот момент осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве можно обнаружить еще достаточно памяти для постановки вопроса о ее воплощении. Таким образом, по мысли Нора, чувство и желание непрерывности стремится найти укрытие в местах памяти.
Для того чтобы продолжить размышления в этом русле, нам вслед за французским историком необходимо разделить такие понятия, как память и история. В анализируемой нами работе мы обнаруживаем четко артикулированные определения памяти и противостоящие им определения истории.
Во-первых, память – жизнь, посетителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта запоминанию и забвению, она изменчива (и часто эти изменения происходят неосознанно), способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. Во-вторых, она представляет собой всегда актуальный феномен связи человека с вечным настоящим. В-третьих, память помещает воспоминание в священное.
Наиболее подходящей для наших задач концепцией является концепция «мест памяти», которая вводится в исторический дискурс таким современным французским исследователем, как Пьер Нора. Стоит, однако, отметить, что в рамках данного текста нами будет рассмотрен взгляд Нора актуальный только на момент его участия в написании книги «Франция-память».
Это замечание является важным, так как в дальнейших своих работах Пьер Нора, по справедливому замечанию П. Рикера, существенно меняет смысловой аспект понятия «место памяти».
Избрав подходящую для нашего дальнейшего размышления размерность и вектор развития, мы можем с чистой совестью приступать к содержательной части нашей работы. Итак, в статье «Между памятью и историей. Проблематика мест памяти», вошедшей в книгу «Франция-память», Нора констатирует ускорение исторического процесса, который можно расшифровать как убыстряющийся ход времени, ощутимый повсеместно.
У современного человека, отмечает Нора, возникает доступ к осознанию себя под знаком завершенности чего-то изначального. Интерес к местам памяти (местам убежища памяти) связан именно с таким особым поворотным моментом истории. В этот момент осознание разрыва с прошлым сливается с ощущением разорванной памяти, но в этом разрыве можно обнаружить еще достаточно памяти для постановки вопроса о ее воплощении. Таким образом, по мысли Нора, чувство и желание непрерывности стремится найти укрытие в местах памяти.
Для того чтобы продолжить размышления в этом русле, нам вслед за французским историком необходимо разделить такие понятия, как память и история. В анализируемой нами работе мы обнаруживаем четко артикулированные определения памяти и противостоящие им определения истории.
Во-первых, память – жизнь, посетителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта запоминанию и забвению, она изменчива (и часто эти изменения происходят неосознанно), способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. Во-вторых, она представляет собой всегда актуальный феномен связи человека с вечным настоящим. В-третьих, память помещает воспоминание в священное.
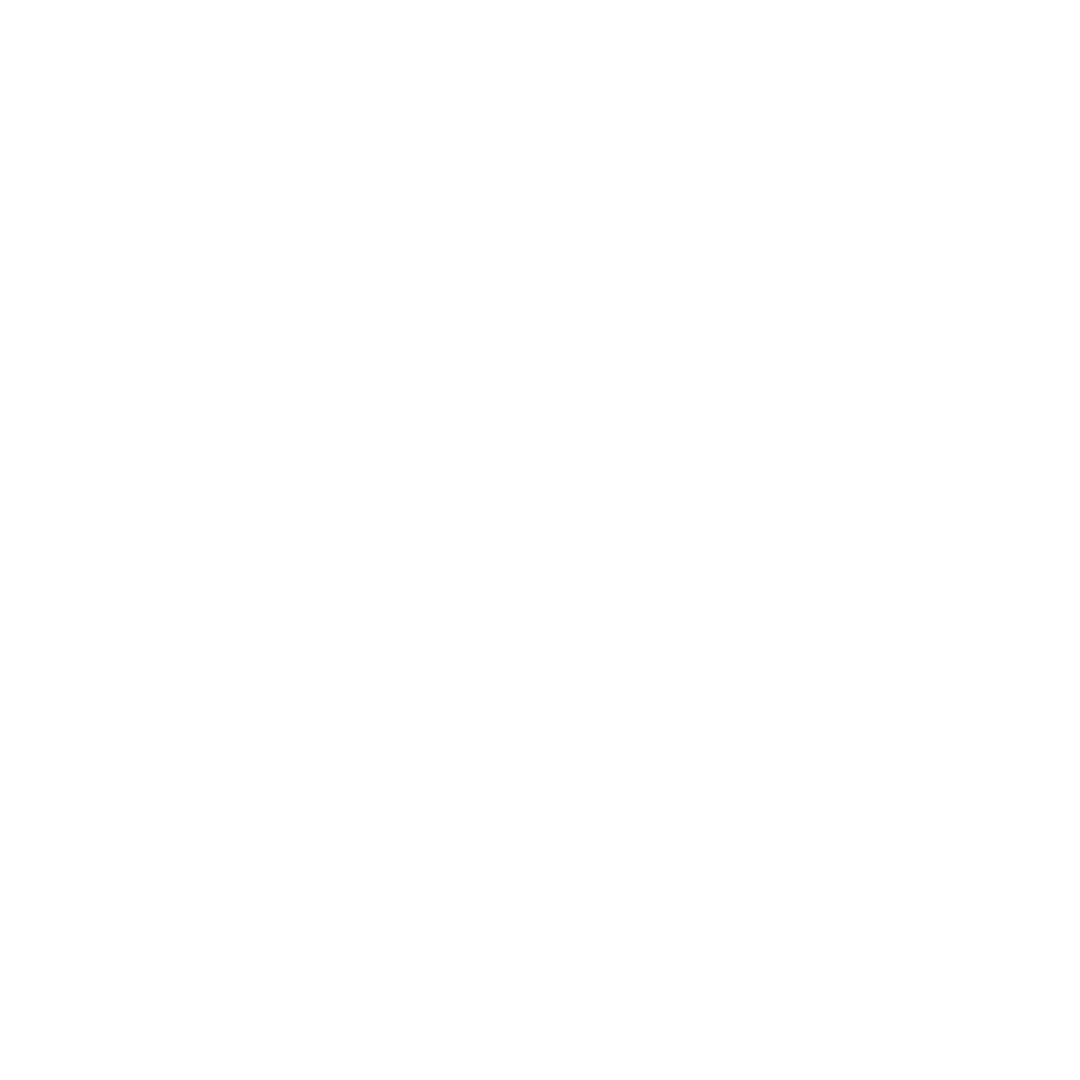
@Catriel Martinez
Приведем здесь и определения истории, принципиальным образом противопоставляющие ее памяти. Во-первых, история всегда проблематична (интеллектуальная и светская операция), она взывает к вечному анализу и критическому осмыслению. Во-вторых, она стремится реконструировать, представить то, чего уже нет, в связи с чем необходимо признать неполноту этой реконструкции. В-третьих, история изгоняет воспоминания из области сакрального, куда их помещает память.
Понятые таким образом история и память представляют собой вечную борьбу противоположностей между собой. Память в этой борьбе оказывается все больше и больше захвачена историей, и на место «истории-памяти» приходит «память, захваченная историей» [4, с.561].
Очевидно, что общество, в котором безусловный приоритет приобрела бы такого рода история, конечно бы, сохранило музеи, архивы и т.д., однако все это было бы окончательно десакрализовано. Рисуя такую картинку возможного социума, Нора говорит, что всеобщий критицизм сохранил бы музеи и памятники, но такое сохранение было бы возможно только ценой лишения того, что делает их местами памяти.
«В конце концов, общество, живущее под знаком истории, оказалось бы не в состоянии обнаружить места, ставшего обителью его памяти» [3, с. 21].
Важно заметить, что история захватывающая память, приводит к «овнешнению» памяти. Можно сказать и наоборот – «овнешнение» памяти может считаться симптомом все большего захвата памяти историей.
Понятые таким образом история и память представляют собой вечную борьбу противоположностей между собой. Память в этой борьбе оказывается все больше и больше захвачена историей, и на место «истории-памяти» приходит «память, захваченная историей» [4, с.561].
Очевидно, что общество, в котором безусловный приоритет приобрела бы такого рода история, конечно бы, сохранило музеи, архивы и т.д., однако все это было бы окончательно десакрализовано. Рисуя такую картинку возможного социума, Нора говорит, что всеобщий критицизм сохранил бы музеи и памятники, но такое сохранение было бы возможно только ценой лишения того, что делает их местами памяти.
«В конце концов, общество, живущее под знаком истории, оказалось бы не в состоянии обнаружить места, ставшего обителью его памяти» [3, с. 21].
Важно заметить, что история захватывающая память, приводит к «овнешнению» памяти. Можно сказать и наоборот – «овнешнение» памяти может считаться симптомом все большего захвата памяти историей.
«Чем меньше память переживает внутренне, тем более она нуждается во внешней поддержке и в ощутимых точках опоры, в которых и только благодаря которым она существует. Отсюда типичная для наших дней одержимость архивами, влияющая одновременно как на полную консервацию настоящего, так и на полное сохранение всего прошлого.
Чувство быстрого и окончательного исчезновения памяти смешивается с беспокойством о точном значении настоящего и неуверенностью в будущем, чтобы придать зримое достоинство запоминающегося самым незначительным останкам, самым путаным свидетельствам» [3, с. 29].
Чувство быстрого и окончательного исчезновения памяти смешивается с беспокойством о точном значении настоящего и неуверенностью в будущем, чтобы придать зримое достоинство запоминающегося самым незначительным останкам, самым путаным свидетельствам» [3, с. 29].
Решительно невозможной является любая попытка предсказать то, что потребуется вспомнить. В этой связи императивом времени становится превращение всего в архивы, гипертрофированное раздувание функций памяти, связанное со страхом ее полной утраты. Именно так по справедливому замечанию П. Нора, и проявляется «терроризм историзированной памяти».
«За несколько лет материализация памяти стала чрезмерно распространенной, децентрализованной, демократичной. И если в классическую эпоху было три источника пополнения архивов: знатный род, церковь и государство. Кто только сегодня не считает себя обязанным записать свои воспоминания, написать свои «мемуары»…» [3, с. 30].
Эта тотальная жажда помнить превратила каждого человека в собственного историка, стала из социальной практики чем-то сугубо индивидуальным.
«Нора рассматривает процесс «окончательного возврата памяти в сферу индивидуальной психологии» как цену, которую придется заплатить за историческую метаморфозу памяти. С его точки зрения, такой возврат был не свидетельством выживания «подлинной памяти» как таковой, а культурным следствием компенсации за историзацию памяти» [4, с. 562].
«За несколько лет материализация памяти стала чрезмерно распространенной, децентрализованной, демократичной. И если в классическую эпоху было три источника пополнения архивов: знатный род, церковь и государство. Кто только сегодня не считает себя обязанным записать свои воспоминания, написать свои «мемуары»…» [3, с. 30].
Эта тотальная жажда помнить превратила каждого человека в собственного историка, стала из социальной практики чем-то сугубо индивидуальным.
«Нора рассматривает процесс «окончательного возврата памяти в сферу индивидуальной психологии» как цену, которую придется заплатить за историческую метаморфозу памяти. С его точки зрения, такой возврат был не свидетельством выживания «подлинной памяти» как таковой, а культурным следствием компенсации за историзацию памяти» [4, с. 562].
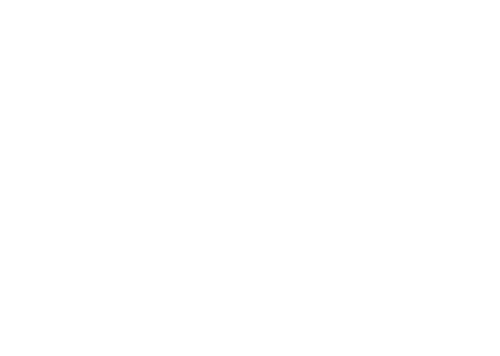
@Kevin Lucbert
В этой ситуации нельзя более говорить о человеке-памяти, но в самой личности человека обнаруживается место памяти. Место памяти, как концепт, уже в самом начале своего полагания является крайне противоречивым, что и отмечает, анализируя текст Нора, П. Рикер.
Противоречие это можно сформулировать так: места памяти, будучи результатом «овненшнения» памяти, представляют собой симптом захвата памяти историей (десакрализующей), однако именно места памяти, как некоторый разрыв между историей памятью (как социальной практикой), и становятся местами, в которых находит свое последнее убежище непосредственная и живая память, возможная теперь только в качестве индивидуальной. На данном этапе Нора, по-видимому, не находит в этом противоречии опасности для своей теории и продолжает развивать ее.
В таком случае постараемся разобраться с понятием «место памяти». По мысли Нора, места памяти принадлежат одновременно двум царствам: они открыты чувственному опыту и являются благодатной почвой для самого абстрактного анализа. Рассмотрим их сложную структуру детальнее.
Можно выделить три смысловых компонента мест памяти: во-первых, материальный смысл (место и время); во-вторых, символический смысл (плод воображения); в-третьих, функциональный (размерность пережитого индивидом или социальной группой опыта, определенная ритуальность). Перечисленные нами три аспекта всегда тесно переплетены, они всегда сосуществуют. Мы не можем, например, считать архив с бумагами местом памяти, без наделения этого архива определенным сакральным смыслом.
Это переплетение трех смысловых аспектов создает игру истории и памяти. Это вроде бы и места, но места смешанные, отсылающие нас и к жизни, и к смерти; и к временности, и к вечности, — в них все это сплетается теснейшим образом, образуя причудливую множественность возможных значений. Каждое место памяти – нечто отдельное, но отсылающие к памяти, как к целому, к некоторой тотальности.
Нора прописывает целую классификацию возможных мест памяти, которая является чрезвычайно многообразной. Однако из всего, перечисленного им, нас более всего интересуют события как места памяти. Ведь данная статья замышлялась изначально как попытка осмысления собственного опыта участия в акции «Бессмертный полк».
Противоречие это можно сформулировать так: места памяти, будучи результатом «овненшнения» памяти, представляют собой симптом захвата памяти историей (десакрализующей), однако именно места памяти, как некоторый разрыв между историей памятью (как социальной практикой), и становятся местами, в которых находит свое последнее убежище непосредственная и живая память, возможная теперь только в качестве индивидуальной. На данном этапе Нора, по-видимому, не находит в этом противоречии опасности для своей теории и продолжает развивать ее.
В таком случае постараемся разобраться с понятием «место памяти». По мысли Нора, места памяти принадлежат одновременно двум царствам: они открыты чувственному опыту и являются благодатной почвой для самого абстрактного анализа. Рассмотрим их сложную структуру детальнее.
Можно выделить три смысловых компонента мест памяти: во-первых, материальный смысл (место и время); во-вторых, символический смысл (плод воображения); в-третьих, функциональный (размерность пережитого индивидом или социальной группой опыта, определенная ритуальность). Перечисленные нами три аспекта всегда тесно переплетены, они всегда сосуществуют. Мы не можем, например, считать архив с бумагами местом памяти, без наделения этого архива определенным сакральным смыслом.
Это переплетение трех смысловых аспектов создает игру истории и памяти. Это вроде бы и места, но места смешанные, отсылающие нас и к жизни, и к смерти; и к временности, и к вечности, — в них все это сплетается теснейшим образом, образуя причудливую множественность возможных значений. Каждое место памяти – нечто отдельное, но отсылающие к памяти, как к целому, к некоторой тотальности.
Нора прописывает целую классификацию возможных мест памяти, которая является чрезвычайно многообразной. Однако из всего, перечисленного им, нас более всего интересуют события как места памяти. Ведь данная статья замышлялась изначально как попытка осмысления собственного опыта участия в акции «Бессмертный полк».
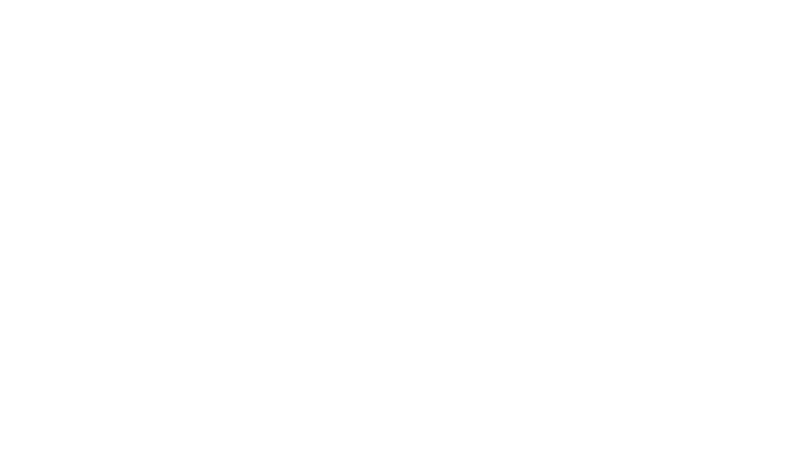
@В. Илюшин
Итак, если мы рассматриваем событие как место памяти, нам необходимо, вслед за Нора, уделить внимание возможным видам таких событий. А они могут быть:
1) Доминирующими (триумфальные и подавляющие, холодные и торжественные);
2) Доминируемыми (убежища и святилища спонтанной преданности и безмолвных паломничеств).
Этот второй тип и есть живое сердце самой памяти. Первый же, видимо, является примером несостоявшейся встречи с местом памяти, либо же местом, в котором памяти не удалось укрыться от истории. В такие места, пишет Нора, люди не идут по собственному желанию.
Подводя здесь определенные итоги теоретической части нашей работы, стоит еще раз уделить внимание тем моментам, которые помогут нам отличить места памяти от искусственных попыток «создать» память.
Если вторые стремятся иметь дело с самими вещами, с их реальностью, то первые скорее не имеют референции в реальном мире. Они сами суть свои собственные знаки, что не делает их менее содержательными, однако помогает им, избегая истории, сохранять статус мест памяти. Таким образом, места памяти могут быть конституированы как некоторый разрыв в пространстве профанного, внутри которого все имеет смысл. Это и есть путь возникновения новой истории – истории, нацеленной на поддержание целостности, на сокращение разрыва между историей-памятью и современной ситуацией, борющейся за новые принципы своего существования и сохранения.
Так мы постепенно подошли к более свободной части нашей статьи, в которой мы собирались с самого начала осмыслить собственный опыт участия в акции «Бессмертный полк». Можно ли считать «Бессмертный полк» местом памяти? Мы однозначно ответим, что можно. Ведь в нем обнаруживается переплетение всех тех смысловых компонентов, которые Нора артикулировал как необходимые составляющие места памяти (место – «Невский проспект»; символический аспект – фотографии наших прадедов; функциональный аспект – мы стоим в строю и отождествляем себя со своими погибшими родственниками, примеряем на себя их «мундиры» и поступки). Позиция исследователей, через призму концепций которых мы рассматриваем здесь собственный опыт, чрезвычайно близка к позиции французского феноменолога М. Мерло-Понти, кроме того, именно его понимание ситуации поможет нам понять переплетение смысловых планов в случае рассмотрения мест памяти.
«Мы можем сказать, что нормальный субъект мгновенно получает некие «зацепки» на своем теле. Он не только распоряжается своим телом как вовлеченным конкретную среду, не только находится в ситуации с точки зрения задач, поставленных его делом, не только открыт реальным ситуациям, более того, он обладает своим телом как коррелятом чистых стимулов, лишенных практического значения, он открыт словесным или вымышленным ситуациям, которые он может выбрать для себя или которые экспериментатор может ему предложить» [2, с. 150].
1) Доминирующими (триумфальные и подавляющие, холодные и торжественные);
2) Доминируемыми (убежища и святилища спонтанной преданности и безмолвных паломничеств).
Этот второй тип и есть живое сердце самой памяти. Первый же, видимо, является примером несостоявшейся встречи с местом памяти, либо же местом, в котором памяти не удалось укрыться от истории. В такие места, пишет Нора, люди не идут по собственному желанию.
Подводя здесь определенные итоги теоретической части нашей работы, стоит еще раз уделить внимание тем моментам, которые помогут нам отличить места памяти от искусственных попыток «создать» память.
Если вторые стремятся иметь дело с самими вещами, с их реальностью, то первые скорее не имеют референции в реальном мире. Они сами суть свои собственные знаки, что не делает их менее содержательными, однако помогает им, избегая истории, сохранять статус мест памяти. Таким образом, места памяти могут быть конституированы как некоторый разрыв в пространстве профанного, внутри которого все имеет смысл. Это и есть путь возникновения новой истории – истории, нацеленной на поддержание целостности, на сокращение разрыва между историей-памятью и современной ситуацией, борющейся за новые принципы своего существования и сохранения.
Так мы постепенно подошли к более свободной части нашей статьи, в которой мы собирались с самого начала осмыслить собственный опыт участия в акции «Бессмертный полк». Можно ли считать «Бессмертный полк» местом памяти? Мы однозначно ответим, что можно. Ведь в нем обнаруживается переплетение всех тех смысловых компонентов, которые Нора артикулировал как необходимые составляющие места памяти (место – «Невский проспект»; символический аспект – фотографии наших прадедов; функциональный аспект – мы стоим в строю и отождествляем себя со своими погибшими родственниками, примеряем на себя их «мундиры» и поступки). Позиция исследователей, через призму концепций которых мы рассматриваем здесь собственный опыт, чрезвычайно близка к позиции французского феноменолога М. Мерло-Понти, кроме того, именно его понимание ситуации поможет нам понять переплетение смысловых планов в случае рассмотрения мест памяти.
«Мы можем сказать, что нормальный субъект мгновенно получает некие «зацепки» на своем теле. Он не только распоряжается своим телом как вовлеченным конкретную среду, не только находится в ситуации с точки зрения задач, поставленных его делом, не только открыт реальным ситуациям, более того, он обладает своим телом как коррелятом чистых стимулов, лишенных практического значения, он открыт словесным или вымышленным ситуациям, которые он может выбрать для себя или которые экспериментатор может ему предложить» [2, с. 150].
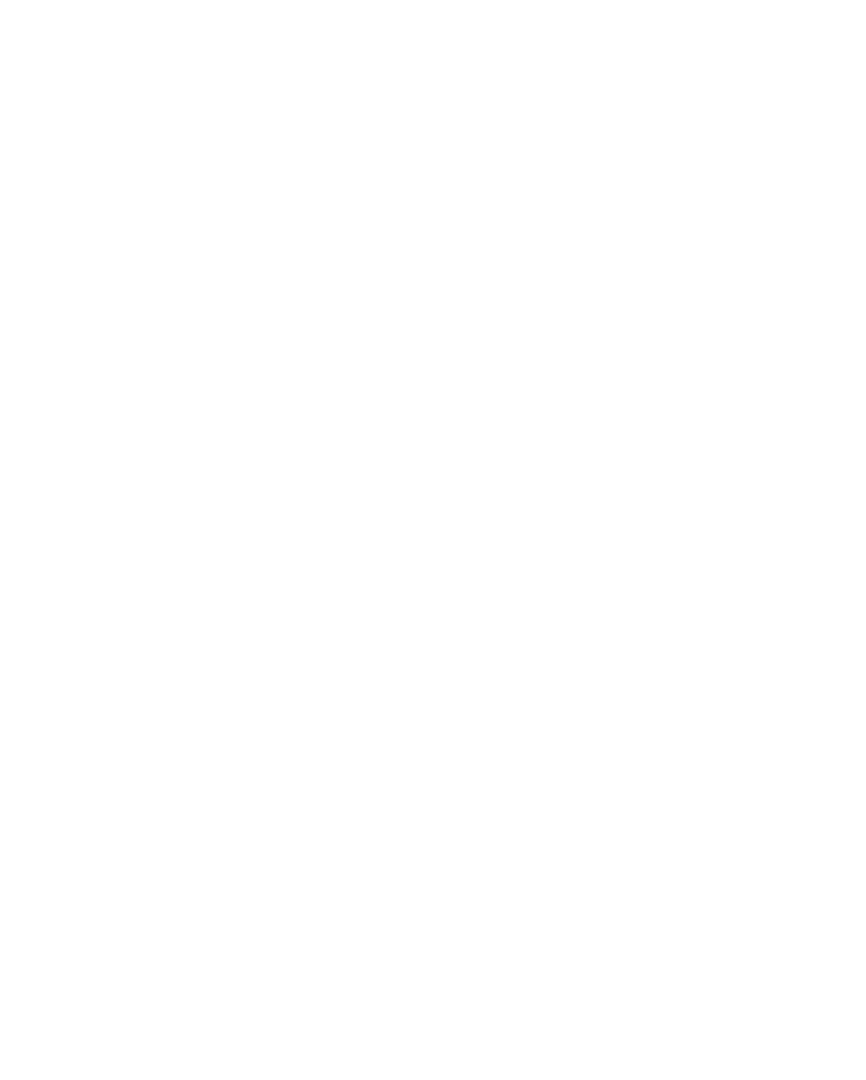
"ella renneus
Мерло-Понти описывает опыт субъекта как вовлеченность в ситуацию и открытость множеству дополнительных ситуаций. То же самое мы видим в случае с переплетением смысловых компонентов места памяти, мы можем лишь схематично обозначить эти моменты, однако никогда не сможем говорить о них подробнее в отрыве от конкретной ситуации и описания индивидуального опыта переживания.
«…исторический мир не является совокупностью вещей, он есть единство бытия и небытия, духовного и материального, возможности и действительности. И именно в этом слиянии, в этом единстве осуществляется прорыв к истории, в экзистенциальном выборе этой позиции открывается путь к личностным аспектам бытия» [1, с. 101].
Сразу же ответим тут на еще один вопрос: является ли Бессмертный полк доминирующим местом памяти или же все-таки доминируемым? Ответ на этот вопрос и прост и труден одновременно.
Не думаем, что кого-то удивит здесь замечание о том, что активность, посвященная Дню Победы в нашей стране часто имеет вид именно «доминирующего события»: салюты, речи депутатов перед ветеранами, концерты на площадях во всех городах России, – все это часто выглядит помпезно, периодически можно заметить неподобающее отношение и к символике праздника, а также большое количеством пьяных на улицах. Эти наблюдения позволили бы нам считать Бессмертный полк лишь одним моментом из ряда доминирующих событий со своей напускной и холодной торжественностью. Однако эта позиция нам совершенно не близка. Почему? Мы с удовольствием ответим на этот вопрос.
Нам не кажется, что можно гарантированно организовать коллективную встречу с местом памяти. Ведь по справедливому замечанию Нора, для того, чтобы встреча произошла, нужно хотеть помнить. Все ли пришедшие на Бессмертный полк хотят помнить? Безусловно, не все, не стоит тешить себя здесь излишними иллюзиями. Но мы хотим, и уже этого достаточно. Мы – это все те, кто впитал истории о своих героических предках с самого детства; мы – это те, кто гордо несет портрет своего прадеда над головой.
Известный французский философ и социолог М. Хальбвакс, последователем которого признает себя П. Нора, пишет по поводу восстановления образа умершего человека в памяти следующее:
«…если я хочу собрать воедино и уточнить все те из моих воспоминаний, которые могли бы помочь мне восстановить фигуру и личность моего отца, каким я его знал, совершенно ни к чему перебирать исторические события, имевшие место за время его жизни. Однако если я встречу знавшего его человека и тот сообщит мне о нем неизвестные мне до сих пор подробности и обстоятельства, если моя мать расширит и дополнит картину его жизни и осветит некоторые из тех ее частей, которые до сих пор были мне неясны, разве у меня не возникнет ощущение, будто я возвращаюсь в прошлое и расширяю целую категорию моих воспоминаний? Это не просто ретроспективная иллюзия, как если бы я нашел письмо от него, которое мог бы прочитать при его жизни; эти новые воспоминания, соответствующие недавним впечатлениям, не просто прибавляются к другим, по-настоящему с ними не смешиваясь. Преобразуется вся совокупность воспоминаний о моем отце, и теперь они кажутся мне более соответствующими реальности.» [5, с. 13].
«…исторический мир не является совокупностью вещей, он есть единство бытия и небытия, духовного и материального, возможности и действительности. И именно в этом слиянии, в этом единстве осуществляется прорыв к истории, в экзистенциальном выборе этой позиции открывается путь к личностным аспектам бытия» [1, с. 101].
Сразу же ответим тут на еще один вопрос: является ли Бессмертный полк доминирующим местом памяти или же все-таки доминируемым? Ответ на этот вопрос и прост и труден одновременно.
Не думаем, что кого-то удивит здесь замечание о том, что активность, посвященная Дню Победы в нашей стране часто имеет вид именно «доминирующего события»: салюты, речи депутатов перед ветеранами, концерты на площадях во всех городах России, – все это часто выглядит помпезно, периодически можно заметить неподобающее отношение и к символике праздника, а также большое количеством пьяных на улицах. Эти наблюдения позволили бы нам считать Бессмертный полк лишь одним моментом из ряда доминирующих событий со своей напускной и холодной торжественностью. Однако эта позиция нам совершенно не близка. Почему? Мы с удовольствием ответим на этот вопрос.
Нам не кажется, что можно гарантированно организовать коллективную встречу с местом памяти. Ведь по справедливому замечанию Нора, для того, чтобы встреча произошла, нужно хотеть помнить. Все ли пришедшие на Бессмертный полк хотят помнить? Безусловно, не все, не стоит тешить себя здесь излишними иллюзиями. Но мы хотим, и уже этого достаточно. Мы – это все те, кто впитал истории о своих героических предках с самого детства; мы – это те, кто гордо несет портрет своего прадеда над головой.
Известный французский философ и социолог М. Хальбвакс, последователем которого признает себя П. Нора, пишет по поводу восстановления образа умершего человека в памяти следующее:
«…если я хочу собрать воедино и уточнить все те из моих воспоминаний, которые могли бы помочь мне восстановить фигуру и личность моего отца, каким я его знал, совершенно ни к чему перебирать исторические события, имевшие место за время его жизни. Однако если я встречу знавшего его человека и тот сообщит мне о нем неизвестные мне до сих пор подробности и обстоятельства, если моя мать расширит и дополнит картину его жизни и осветит некоторые из тех ее частей, которые до сих пор были мне неясны, разве у меня не возникнет ощущение, будто я возвращаюсь в прошлое и расширяю целую категорию моих воспоминаний? Это не просто ретроспективная иллюзия, как если бы я нашел письмо от него, которое мог бы прочитать при его жизни; эти новые воспоминания, соответствующие недавним впечатлениям, не просто прибавляются к другим, по-настоящему с ними не смешиваясь. Преобразуется вся совокупность воспоминаний о моем отце, и теперь они кажутся мне более соответствующими реальности.» [5, с. 13].
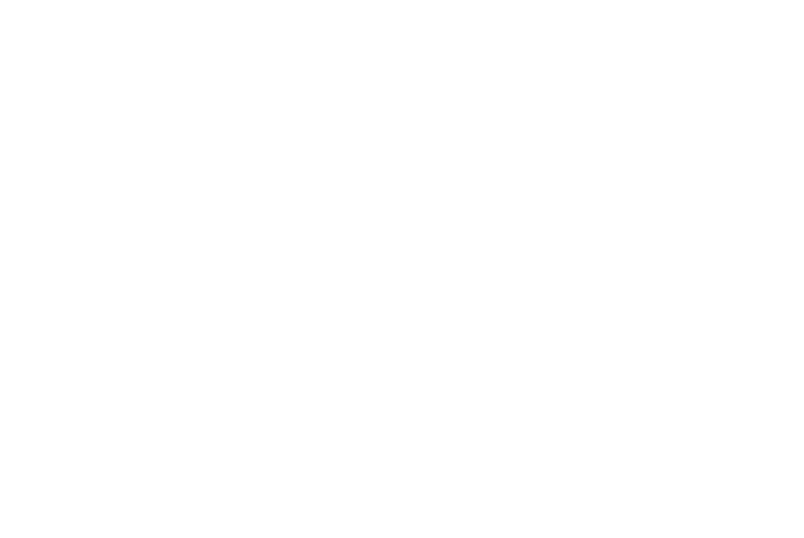
Can Dagarslani
То же можно сказать и о нашем воспоминании прадеда, представление о котором у нас выстроено исключительно на основании рассказов о нем. И, несмотря на отсутствие непосредственной памяти о прадеде, наше воспоминание о нем изменчиво, живо и динамично.
Попробуем проанализировать память, которая пробуждается здесь изнутри собственного опыта, и ее преобразования в связи с опытом посещения Бессмертного полка.
Итак, я выхожу с портретом прадеда, встаю в строй и мы начинаем свое движение вместе с колонной. Люди переговариваются, шумят, поют, рассказывают детям истории о войне, солдатские байки и семейные предания, от которых детские лица становятся серьезными, поют военные песни и кричат «ура». Мы идем полчаса, час… Я начинаю замечать холод, руки постепенно начинают уставать, но (и тут можно заметить включение еще одного смыслового аспекта в мой опыт) я будто бы чувствую ответственность перед фотографией моего прадеда, и холод и усталость отступают на второй план. Я хочу поднять его фотографию выше, как бы говоря ему «смотри, войны больше нет! Смотри, какое красивое голубое небо и Невский проспект, и Дворцовая площадь!»
В моих руках портрет оживает и возникает диалог – мой диалог с моим прадедом (за этот компонент отвечает мое воображение, этот момент и делает мои переживания сакральными, помогает памяти кристаллизоваться). С прадедом, которого я и не знал никогда, разве что только по рассказам. Я достраиваю себе его образ, и его мужественное лицо и взгляд обращаются ко мне.
И вот, мое непосредственное физическое участие в колонне Бессмертного полка приобретает смысл ритуала (функциональный), я примеряю на себя роль защитника своей Родины, задумываюсь о близких мне людях, о том, на что я готов пойти ради них. Привычный для меня путь по Невскому проспекту, который я часто прохожу, слушая плеер или просто погружаясь в свои мысли, становится местом моего сакрального переживания, проживаемого в этом шествии. Шествие людей превращается в подвижное переплетение смыслов, я ощущаю себя включенным в историю семьи, в историю страны, наконец, и в мировую историю тоже. Вот оно – сердце памяти, живое сакральное переживание истории-памяти.
«Пустые рамки не могут сами по себе произвести выразительное и точное воспоминание. Но здесь рамки наполнены личными размышлениями и семейными воспоминаниями, и воспоминание становится образом, погруженным в другие образы, обобщенным образом, перенесенным в прошлое» [5, с. 12].
Попробуем проанализировать память, которая пробуждается здесь изнутри собственного опыта, и ее преобразования в связи с опытом посещения Бессмертного полка.
Итак, я выхожу с портретом прадеда, встаю в строй и мы начинаем свое движение вместе с колонной. Люди переговариваются, шумят, поют, рассказывают детям истории о войне, солдатские байки и семейные предания, от которых детские лица становятся серьезными, поют военные песни и кричат «ура». Мы идем полчаса, час… Я начинаю замечать холод, руки постепенно начинают уставать, но (и тут можно заметить включение еще одного смыслового аспекта в мой опыт) я будто бы чувствую ответственность перед фотографией моего прадеда, и холод и усталость отступают на второй план. Я хочу поднять его фотографию выше, как бы говоря ему «смотри, войны больше нет! Смотри, какое красивое голубое небо и Невский проспект, и Дворцовая площадь!»
В моих руках портрет оживает и возникает диалог – мой диалог с моим прадедом (за этот компонент отвечает мое воображение, этот момент и делает мои переживания сакральными, помогает памяти кристаллизоваться). С прадедом, которого я и не знал никогда, разве что только по рассказам. Я достраиваю себе его образ, и его мужественное лицо и взгляд обращаются ко мне.
И вот, мое непосредственное физическое участие в колонне Бессмертного полка приобретает смысл ритуала (функциональный), я примеряю на себя роль защитника своей Родины, задумываюсь о близких мне людях, о том, на что я готов пойти ради них. Привычный для меня путь по Невскому проспекту, который я часто прохожу, слушая плеер или просто погружаясь в свои мысли, становится местом моего сакрального переживания, проживаемого в этом шествии. Шествие людей превращается в подвижное переплетение смыслов, я ощущаю себя включенным в историю семьи, в историю страны, наконец, и в мировую историю тоже. Вот оно – сердце памяти, живое сакральное переживание истории-памяти.
«Пустые рамки не могут сами по себе произвести выразительное и точное воспоминание. Но здесь рамки наполнены личными размышлениями и семейными воспоминаниями, и воспоминание становится образом, погруженным в другие образы, обобщенным образом, перенесенным в прошлое» [5, с. 12].
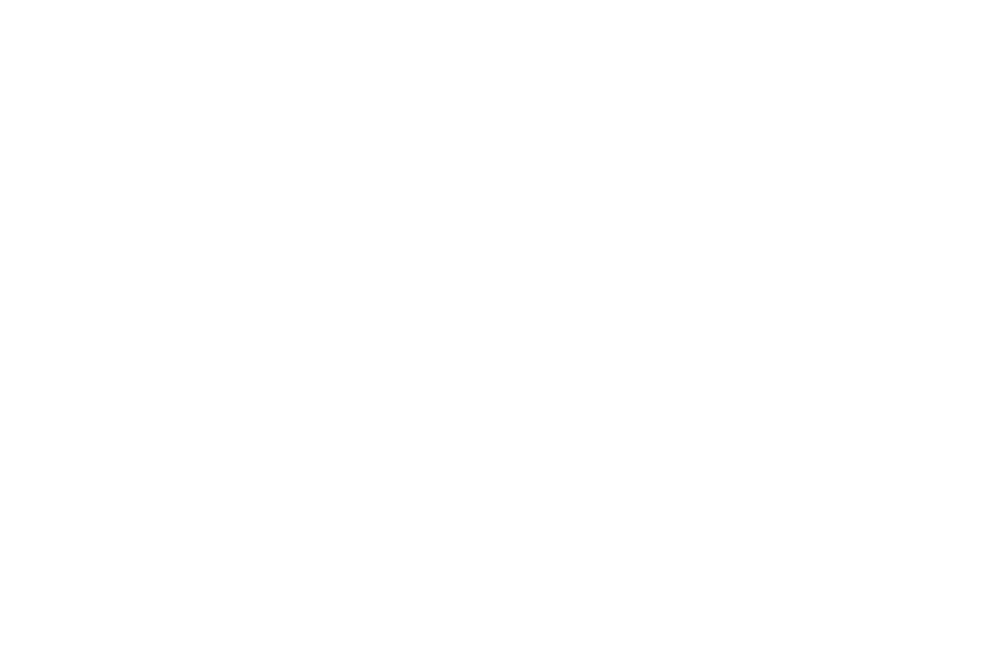
А. Владыкин
Является ли Бессмертный полк местом памяти? На наш взгляд – да. Можем ли мы сказать, что Бессмертный полк – всеобщее и коллективное место памяти? Мы не может утверждать этот момент с очевидностью, можем лишь догадываться и говорить от лица собственного переживания, собственного опыта.
Нам бы не хотелось, чтобы этот текст был воспринят, как агитация за обязательное посещение Бессмертного полка или же агитация за то, чтобы испытывать именно описанные нами чувства. Этот текст – наше желание поделиться своими переживаниями и осмыслить их. А за одно и поднять вопрос о том, как возможна история сегодня?
П. Нора, например, утверждает возможность говорить об истории нового порядка, истории живой, которая актуализируется в местах памяти, где переживается людьми, как собственное, глубоко личное и сакральное впечатление.
«Местам памяти приписывается замечательная действенность, состоящая в том, чтобы порождать «другую историю». Они черпают эту способность из своей принадлежности к двум сферам — памяти и истории»[4, с. 564].
Нам бы не хотелось, чтобы этот текст был воспринят, как агитация за обязательное посещение Бессмертного полка или же агитация за то, чтобы испытывать именно описанные нами чувства. Этот текст – наше желание поделиться своими переживаниями и осмыслить их. А за одно и поднять вопрос о том, как возможна история сегодня?
П. Нора, например, утверждает возможность говорить об истории нового порядка, истории живой, которая актуализируется в местах памяти, где переживается людьми, как собственное, глубоко личное и сакральное впечатление.
«Местам памяти приписывается замечательная действенность, состоящая в том, чтобы порождать «другую историю». Они черпают эту способность из своей принадлежности к двум сферам — памяти и истории»[4, с. 564].
ЛИТЕРАТУРА
1. Ажимов Ф. Е., Сабанчеев Р. Ю., М. Мерло-Понти и М. Хальбвакс: экзистенциальный выбор как основание исторического сознания // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. №4 (34). С.98-103
2. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999.
3. Нора П. Между памятью и историей // Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память. СПб., 1999. С. 17-51.
4. Рикёр П. Память, история, забвение / П. Рикёр. М., 2004.
5. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. 2005. №2−3 (40−41). С.8–27.
1. Ажимов Ф. Е., Сабанчеев Р. Ю., М. Мерло-Понти и М. Хальбвакс: экзистенциальный выбор как основание исторического сознания // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. №4 (34). С.98-103
2. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999.
3. Нора П. Между памятью и историей // Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память. СПб., 1999. С. 17-51.
4. Рикёр П. Память, история, забвение / П. Рикёр. М., 2004.
5. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. 2005. №2−3 (40−41). С.8–27.
Авторы: Сергей Гоглев, Екатерина Гоглева.
© All Rights Reserved. Tilda Publishing Design Co.
hello@tilda.cc
hello@tilda.cc
