"Эвдаймония" в университете
Прежде чем приступить к основной цели моего сочинения, обратимся к определению евдемонизма, которое дает нам Новая философская энциклопедия РАН: «Евдемонизм (от греч. εὐδαιμονία — счастье) — философско-этическая традиция и жизненная установка, согласно которым единственным или высшим (более предпочтительным, чем все остальные) человеческим благом является счастье». Далее приводятся такие разновидности евдемонизма, как моралистический (разработанный стоиками) и синтетический (этическое учение Аристотеля и перипатетиков). [1]
Теперь представим себе следующую ситуацию. У нас есть два студента-евдемониста. Молодые люди посещают учебный курс, который ведёт строгий профессор. Он намеренно занижает оценки, чтобы заставить своих студентов учиться усерднее. Мешает ли такое положение дел счастью студентов?
Начнем со студента–Хрисиппа, представителя стоицизма. Стоики полагают, что человек может быть счастлив даже в неудачных обстоятельствах, то есть счастье полностью зависит от нас. Счастье есть добродетель, а добродетель, в свою очередь, это знание, которое нужно искать и делиться им с другими[4, c. 83] Таким образом, цель того, что мы делаем, это не счастье как таковое, а активная деятельность, «бытие счастливым». [4, c. 87] Исходя из такого понимания, студент–Хрисипп останется в классе и будет усердно заниматься, передавая новые идеи своим друзьям.
Однако трудиться он будет не потому, что профессор смог его заставить, а лишь потому, что видит в знании своё единственное счастье. Преподаватель пытается вызвать в студентах недовольство; этого же студента мотивируют не эмоции, которые в стоическом учении не играют роли для достижения «эвдаймонии». Студент невозмутим, он смирился с нечестностью профессора.
Теперь представим себе следующую ситуацию. У нас есть два студента-евдемониста. Молодые люди посещают учебный курс, который ведёт строгий профессор. Он намеренно занижает оценки, чтобы заставить своих студентов учиться усерднее. Мешает ли такое положение дел счастью студентов?
Начнем со студента–Хрисиппа, представителя стоицизма. Стоики полагают, что человек может быть счастлив даже в неудачных обстоятельствах, то есть счастье полностью зависит от нас. Счастье есть добродетель, а добродетель, в свою очередь, это знание, которое нужно искать и делиться им с другими[4, c. 83] Таким образом, цель того, что мы делаем, это не счастье как таковое, а активная деятельность, «бытие счастливым». [4, c. 87] Исходя из такого понимания, студент–Хрисипп останется в классе и будет усердно заниматься, передавая новые идеи своим друзьям.
Однако трудиться он будет не потому, что профессор смог его заставить, а лишь потому, что видит в знании своё единственное счастье. Преподаватель пытается вызвать в студентах недовольство; этого же студента мотивируют не эмоции, которые в стоическом учении не играют роли для достижения «эвдаймонии». Студент невозмутим, он смирился с нечестностью профессора.
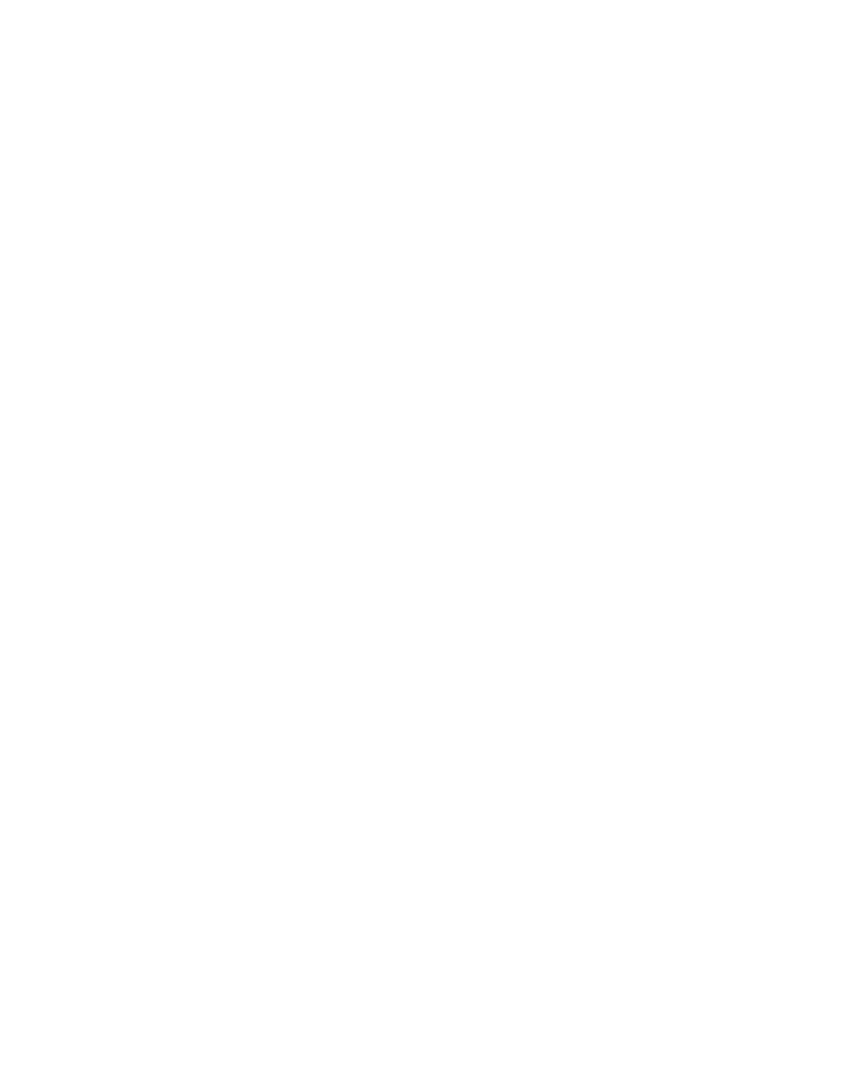
by Daiana Ruiz
Однако здесь нужно указать на еще одну проблему. С одной стороны, стоики утверждают, что живут сообразно мировому разуму, на фоне которого их интересы ничего не значат. Как гражданин Вселенной, студент–Хрисипп обязывает себя думать о благе других. С другой стороны, у него есть набор социальных ролей, и он должен вести себя в соответствии с ними. Кажется, иногда два этих моральных требования несопоставимы.[2, c. 109]
Студент–Хрисипп, видя несправедливость профессора, по идее должен позаботиться о других и устранить её: например, отстранить его от преподавания. Однако он не сделает этого радикального шага (т.е. будет вести себя привычно) ровно по той причине, по которой Марк Аврелий, римский император–стоик, не попытался упразднить рабство, чтобы достичь стоических идеалов. Римское общество было слишком консервативно для таких перемен.
Стоики считали, что бесполезно менять события, пока люди сами не осознали необходимость в этом. [2, c. 117-118] Иными словами, улучшение мира произойдет, когда воплотится заветная формула Сократа поиска истины внутри себя. А свою истину навязывать стоики никому не хотели.
А что же будет делать другой студент? По Аристотелю, состояние «эвдаймонии» — деятельность души согласно добродетели. Он различает два вида добродетелей (мыслительные и нравственные) и дает несколько примеров: «мудрость, сообразительность и рассудительность — это мыслительные добродетели, а щедрость и благоразумие — нравственные».[3, 1103a5] Нравственные добродетели «тренируются» в поступках и, самое главное, «для поступков очень важно, хорошо или плохо наслаждаются и страдают» [3, 1105a5], то есть исход этой тренировки в том, получили ли мы удовольствие или пострадали.
Студент–Хрисипп, видя несправедливость профессора, по идее должен позаботиться о других и устранить её: например, отстранить его от преподавания. Однако он не сделает этого радикального шага (т.е. будет вести себя привычно) ровно по той причине, по которой Марк Аврелий, римский император–стоик, не попытался упразднить рабство, чтобы достичь стоических идеалов. Римское общество было слишком консервативно для таких перемен.
Стоики считали, что бесполезно менять события, пока люди сами не осознали необходимость в этом. [2, c. 117-118] Иными словами, улучшение мира произойдет, когда воплотится заветная формула Сократа поиска истины внутри себя. А свою истину навязывать стоики никому не хотели.
А что же будет делать другой студент? По Аристотелю, состояние «эвдаймонии» — деятельность души согласно добродетели. Он различает два вида добродетелей (мыслительные и нравственные) и дает несколько примеров: «мудрость, сообразительность и рассудительность — это мыслительные добродетели, а щедрость и благоразумие — нравственные».[3, 1103a5] Нравственные добродетели «тренируются» в поступках и, самое главное, «для поступков очень важно, хорошо или плохо наслаждаются и страдают» [3, 1105a5], то есть исход этой тренировки в том, получили ли мы удовольствие или пострадали.
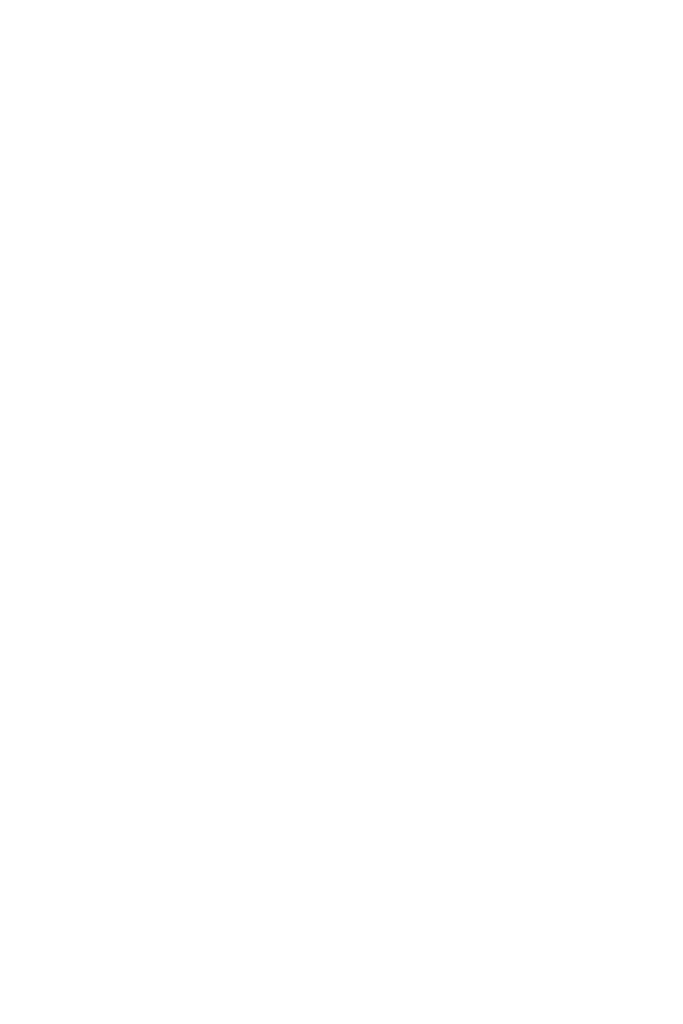
Теперь мы можем вернуться в класс. Перед нами — студент-Аристотель, и у него есть две добродетели: прилежность (нравственная) и рассудительность (мыслительная). Чтобы быть прилежным, студент-Аристотель учится на хорошие; чтобы быть рассудительным, студент приобретает знание и учится им пользоваться.
Раньше студент получал хорошие оценки, а вместе с этим и удовольствие; сейчас же всё наоборот, следовательно, он страдает и поступки, совершаемые для этой добродетели (например, идеальное выполнение всех заданий), будут повторяться с меньшей охотой.
С другой стороны, он может идеально выполнять все задания, чтобы стать рассудительным. В мыслительной добродетели нет места для удовольствия и страдания: мы ищем истину ради нее самой, отвлекаясь от эмоций. Аристотель говорит, что «благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько — то сообразно наилучшей и наиболее полной [и совершенной]».[3, 1098a15]
Более совершенна среди двух — добродетель мыслительная; это означает, что студент продолжит хорошо выполнять задания несмотря ни на что. Здесь мы сталкиваемся с проблемой.
Эрик Браун отмечает, что Аристотель сам себе противоречит: «Добродетель — это то, что делает существование каждого счастливым. Но деятельность отвлеченного созерцания не согласуется с добродетелью, делающей каждого счастливым. Люди по природе своей существа, живущие в полисе: любая деятельность, в которой выражается добродетель, практикуется в сообществе».[4, c. 83]
Учитывая последнее замечание, мы можем предположить, что студент–Аристотель все-таки будет недоволен происходящим.
Раньше студент получал хорошие оценки, а вместе с этим и удовольствие; сейчас же всё наоборот, следовательно, он страдает и поступки, совершаемые для этой добродетели (например, идеальное выполнение всех заданий), будут повторяться с меньшей охотой.
С другой стороны, он может идеально выполнять все задания, чтобы стать рассудительным. В мыслительной добродетели нет места для удовольствия и страдания: мы ищем истину ради нее самой, отвлекаясь от эмоций. Аристотель говорит, что «благо представляет собою деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько — то сообразно наилучшей и наиболее полной [и совершенной]».[3, 1098a15]
Более совершенна среди двух — добродетель мыслительная; это означает, что студент продолжит хорошо выполнять задания несмотря ни на что. Здесь мы сталкиваемся с проблемой.
Эрик Браун отмечает, что Аристотель сам себе противоречит: «Добродетель — это то, что делает существование каждого счастливым. Но деятельность отвлеченного созерцания не согласуется с добродетелью, делающей каждого счастливым. Люди по природе своей существа, живущие в полисе: любая деятельность, в которой выражается добродетель, практикуется в сообществе».[4, c. 83]
Учитывая последнее замечание, мы можем предположить, что студент–Аристотель все-таки будет недоволен происходящим.
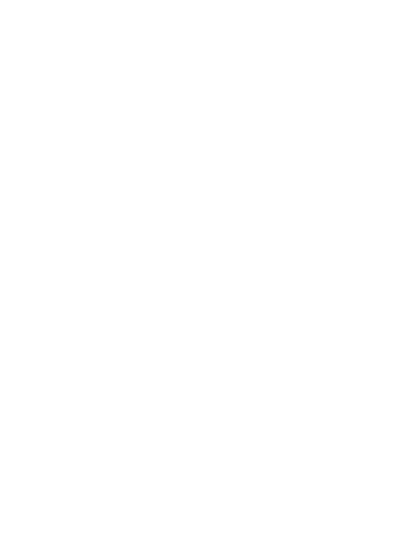
@Romain de Tirtoff
Однако посмотрим, как он справится со своей эмоцией. Главное отличие аристотелевской философии от стоической в том, что счастье зависит не полностью от нас, но и от внешних обстоятельств.
Студент скажет себе: «Да, я могу идеально выполнить задание, но моя прилежность зависит не только от меня: быть может, мне повезет, и профессор задаст мне более легкий вопрос; быть может, сегодня у него будет хорошее настроение и он станет менее требователен. Однако частично ситуация зависит и от меня. Во-первых, я все также стараюсь идеально выполнить все задания, а, во-вторых, я могу с ним поговорить. У меня нет излишней смелости, чтобы выгнать профессора из вуза, и в то же время я не трус, чтобы объяснить ему, почему он не прав».
Последнюю фразу студент–Аристотель скажет потому, что ищет нравственную добродетель (мужество) между двумя крайностями, то есть посередине, как и завещал нам Аристотель. [3, 1107a5]
Итак, у нас есть две различные стратегии достижения счастья в непростых обстоятельствах. Заметим, что оба студента отказались от идеи выгнать профессора, но для стоика это будет бесполезным шагом потому, что другой человек еще не осознал вреда, которого он приносит другим. Аристотель же скажет, что не хочет впадать в крайность, и примет решение исходя из оценки собственных действий.
В конце интересно задаться вопросом: если бы мы сидели в реальном классе, каких студентов оказалось бы больше? Результаты современного исследования психологии образования показывают, что успешность самоконтролируемого обучения напрямую зависит от положительных эмоций. [4, c. 121-131]
Существует ли оно вообще, счастье в истине ради истины? Ответ на этот вопрос я оставлю открытым. По-видимому, «эвдаймония» современности — аристотелевская. Все мы сидим в классе и пытаемся заниматься усердно. Большинство из нас волнуются и спорят, как поступить с профессором. Но я надеюсь, что все-таки на задней парте не дремлет маленький стоик, который просто наблюдает за течением событий и раздражает всех своим спокойствием.
Студент скажет себе: «Да, я могу идеально выполнить задание, но моя прилежность зависит не только от меня: быть может, мне повезет, и профессор задаст мне более легкий вопрос; быть может, сегодня у него будет хорошее настроение и он станет менее требователен. Однако частично ситуация зависит и от меня. Во-первых, я все также стараюсь идеально выполнить все задания, а, во-вторых, я могу с ним поговорить. У меня нет излишней смелости, чтобы выгнать профессора из вуза, и в то же время я не трус, чтобы объяснить ему, почему он не прав».
Последнюю фразу студент–Аристотель скажет потому, что ищет нравственную добродетель (мужество) между двумя крайностями, то есть посередине, как и завещал нам Аристотель. [3, 1107a5]
Итак, у нас есть две различные стратегии достижения счастья в непростых обстоятельствах. Заметим, что оба студента отказались от идеи выгнать профессора, но для стоика это будет бесполезным шагом потому, что другой человек еще не осознал вреда, которого он приносит другим. Аристотель же скажет, что не хочет впадать в крайность, и примет решение исходя из оценки собственных действий.
В конце интересно задаться вопросом: если бы мы сидели в реальном классе, каких студентов оказалось бы больше? Результаты современного исследования психологии образования показывают, что успешность самоконтролируемого обучения напрямую зависит от положительных эмоций. [4, c. 121-131]
Существует ли оно вообще, счастье в истине ради истины? Ответ на этот вопрос я оставлю открытым. По-видимому, «эвдаймония» современности — аристотелевская. Все мы сидим в классе и пытаемся заниматься усердно. Большинство из нас волнуются и спорят, как поступить с профессором. Но я надеюсь, что все-таки на задней парте не дремлет маленький стоик, который просто наблюдает за течением событий и раздражает всех своим спокойствием.
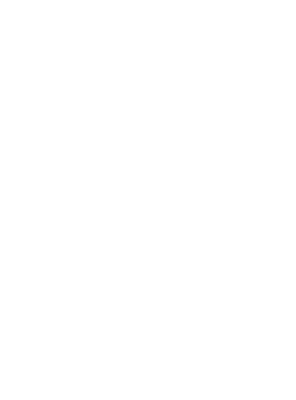
Библиография:
- Евдемонизм // Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1060.html
- Annas J. My Station and Its Duties: Ideals and the Social Embeddedness of Virtue // Proceedings of the Aristotelian Society. 2002. Vol. 102. P. 109-123
- Aristotle. Nicomachean Ethics
- Brown E. Contemplative Withdrawal in the Hellenistic Age // Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. 2007. Vol. 137. P. 79-89
- Mega С., Ronconi L., Beni R. What Makes a Good Student? How Emotions, Self-Regulated Learning, and Motivation Contribute to Academic Achievement // Journal of Educational Psychology. 2014. Vol. 106. P. 121-131
Автор: Ольга Алексеева
