К вопросу о сущности техники
«Техника, сущностью которой является само бытие, никогда не может позволить людям преодолеть ее…».
М. Хайдеггер «Вопрос о технике».
Ключевым компонентом философии М. Хайдеггера, которому он
следовал не без влияния своего учителя, является тезис: «К самим вещам!». Выполняя эту директиву, Хайдеггер формулирует соответствующую феноменологическую установку: «дать увидеть то, что себя кажет, из него самого так, как оно себя от самого себя кажет» [1, с. 34]. Таким образом, одним из видов «давания увидеть» (видов не в формально-логическом смысле слова), является функция логоса, могущего быть истинным или ложным.
Однако, философ призывает избавиться от формально-логического понимания этих категорий. «"Истинность"; логоса как истинствование, ἀληθεύειν, подразумевает: изъять сущее, о котором речь, в λέγειν как ἀποφαίνεσθαι из его
потаенности и дать увидеть как непотаенное (ἀλήθες), раскрыть» —
пишет М. Хайдеггер в своем центральном произведении [1, с. 33].
Другим «видом» открытия потаённости есть постав. Слово «постав» является переводом В.В. Бибихина хайдеггеровского неологизма Gestell, который на английский переводят как enframing или как просто framing (К. Митчем). Свой смысловой неологизм М. Хайдеггер подкрепляет ссылкой на платоновский опыт в создании философемы «эйдос». Постав — способ выхода действительности из потаенности. Техника, как истинствование, ἀληθεύειν, раскрывает потаенное.
следовал не без влияния своего учителя, является тезис: «К самим вещам!». Выполняя эту директиву, Хайдеггер формулирует соответствующую феноменологическую установку: «дать увидеть то, что себя кажет, из него самого так, как оно себя от самого себя кажет» [1, с. 34]. Таким образом, одним из видов «давания увидеть» (видов не в формально-логическом смысле слова), является функция логоса, могущего быть истинным или ложным.
Однако, философ призывает избавиться от формально-логического понимания этих категорий. «"Истинность"; логоса как истинствование, ἀληθεύειν, подразумевает: изъять сущее, о котором речь, в λέγειν как ἀποφαίνεσθαι из его
потаенности и дать увидеть как непотаенное (ἀλήθες), раскрыть» —
пишет М. Хайдеггер в своем центральном произведении [1, с. 33].
Другим «видом» открытия потаённости есть постав. Слово «постав» является переводом В.В. Бибихина хайдеггеровского неологизма Gestell, который на английский переводят как enframing или как просто framing (К. Митчем). Свой смысловой неологизм М. Хайдеггер подкрепляет ссылкой на платоновский опыт в создании философемы «эйдос». Постав — способ выхода действительности из потаенности. Техника, как истинствование, ἀληθεύειν, раскрывает потаенное.
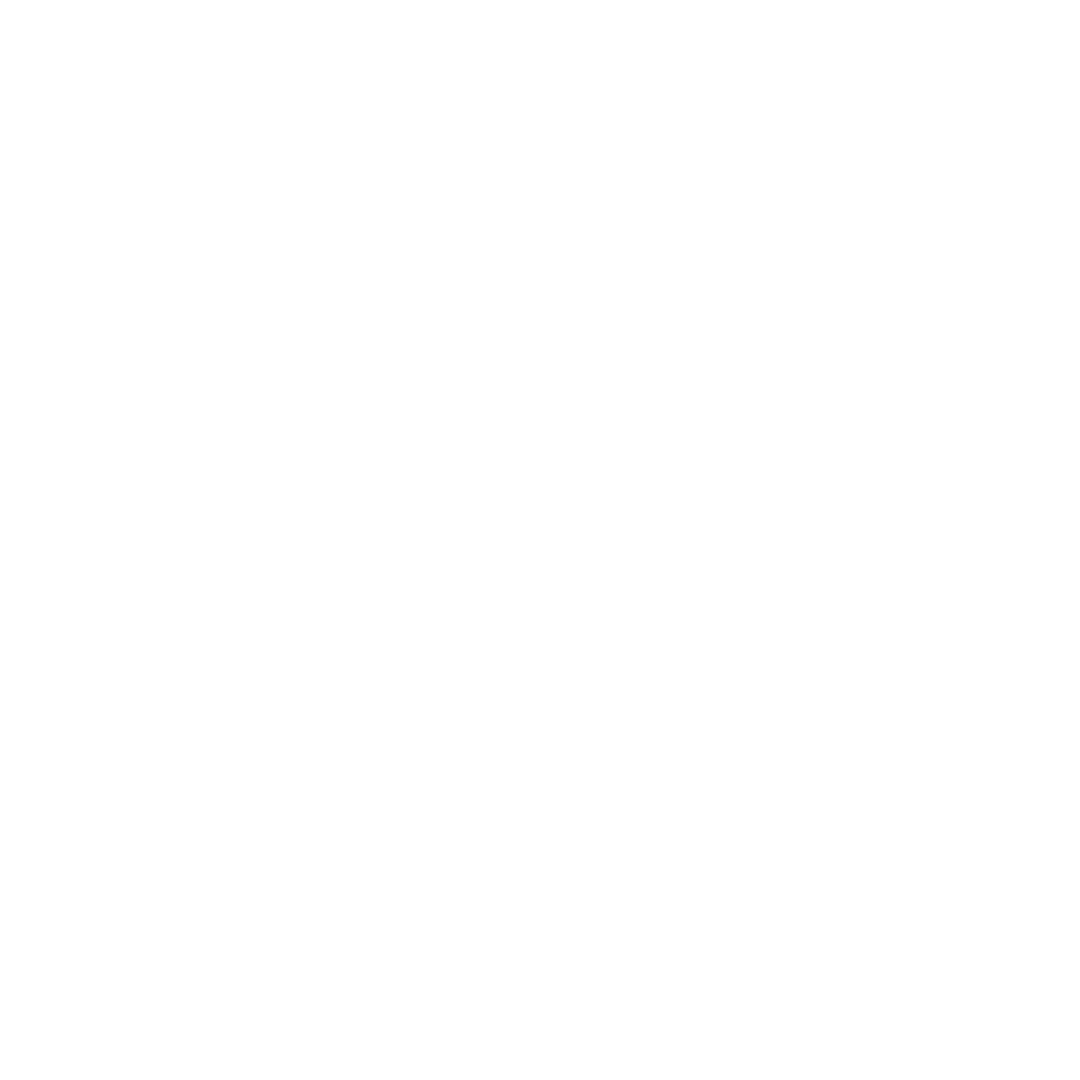
@motiondesigners
Человек, выводя про-из- водимое в раскрытие, сводит воедино образ и материю «в свете пред-водимой законченности вещи», причем от этого сведения на
выходе результат может получиться «таким или иным».
Таким образом, заключая сущность техники в поставе, М. Хайдеггер подчеркивает статус этой сущности не просто как quidditas и essentia, т. е. родовое понятие, например, «лошадность», а как «то, чем вещь держится, в чем её сила, что в ней обнаруживается в конечном счете и чем она жива, т. е. ее
существо (Wesen)».
Сущность техники заключается не в её инструментально-подчиненном характере по отношению к человеку. Как конкретно-вещественное бытие, техника — это переход сущего из возможности в действительность, осуществленность. Теперь онтологический статус природы уже не может быть сам по себе и вне человеческой деятельности, благодаря которой открывается сущность этой самой природы.
Если в период Средних веков мы могли сказать, что мост встроен в реку, то теперь мы так не скажем про гидроэлектростанцию. Тут скорее река встроена в неё, и тем самым открыта её сущность как источника энергии. Таков ход
рассуждения М. Хайдеггера.
Полагаю, что в вопросе понимания техники можно согласиться с
рассуждением М. Хайдеггера, поскольку он даёт специфическое
решения вопроса касательно видения, сокрытого в бытии, что в
философском лексическом коде именуется сущностью. Если вспомнить
изречение Гераклита: φύσις κρείπτεσθαι φιλεῖ (природа любит прятаться)
[2, с. 192], то будет уместным понять, что техника как раз и помогает
раскрыть нам сокрытую «природу». Она элемент нашей экзистенции в
подходе к вещам самим по себе, своего рода помощник, предлагающий
окунуться во мрак бытия «в себе», и дать новый ответ на вопрос «то,
что?».
В этом смысле человеку ещё предстоит неопределенно долго
встречаться со всё новыми и новыми сущностными основаниями
сущего. По поводу приведенной сентенции Гераклита, М. Хайдеггер
считал не совсем корректной популярную антропологическую
интерпретацию, мол, человек репрезентирует природу в близких ему
психоэмоциональных актах переживания. Между тем, философ
предлагает другой способ осмысления: это не человек
антропологизирует природу (бытие), а бытие «обытийствует» человека.
выходе результат может получиться «таким или иным».
Таким образом, заключая сущность техники в поставе, М. Хайдеггер подчеркивает статус этой сущности не просто как quidditas и essentia, т. е. родовое понятие, например, «лошадность», а как «то, чем вещь держится, в чем её сила, что в ней обнаруживается в конечном счете и чем она жива, т. е. ее
существо (Wesen)».
Сущность техники заключается не в её инструментально-подчиненном характере по отношению к человеку. Как конкретно-вещественное бытие, техника — это переход сущего из возможности в действительность, осуществленность. Теперь онтологический статус природы уже не может быть сам по себе и вне человеческой деятельности, благодаря которой открывается сущность этой самой природы.
Если в период Средних веков мы могли сказать, что мост встроен в реку, то теперь мы так не скажем про гидроэлектростанцию. Тут скорее река встроена в неё, и тем самым открыта её сущность как источника энергии. Таков ход
рассуждения М. Хайдеггера.
Полагаю, что в вопросе понимания техники можно согласиться с
рассуждением М. Хайдеггера, поскольку он даёт специфическое
решения вопроса касательно видения, сокрытого в бытии, что в
философском лексическом коде именуется сущностью. Если вспомнить
изречение Гераклита: φύσις κρείπτεσθαι φιλεῖ (природа любит прятаться)
[2, с. 192], то будет уместным понять, что техника как раз и помогает
раскрыть нам сокрытую «природу». Она элемент нашей экзистенции в
подходе к вещам самим по себе, своего рода помощник, предлагающий
окунуться во мрак бытия «в себе», и дать новый ответ на вопрос «то,
что?».
В этом смысле человеку ещё предстоит неопределенно долго
встречаться со всё новыми и новыми сущностными основаниями
сущего. По поводу приведенной сентенции Гераклита, М. Хайдеггер
считал не совсем корректной популярную антропологическую
интерпретацию, мол, человек репрезентирует природу в близких ему
психоэмоциональных актах переживания. Между тем, философ
предлагает другой способ осмысления: это не человек
антропологизирует природу (бытие), а бытие «обытийствует» человека.
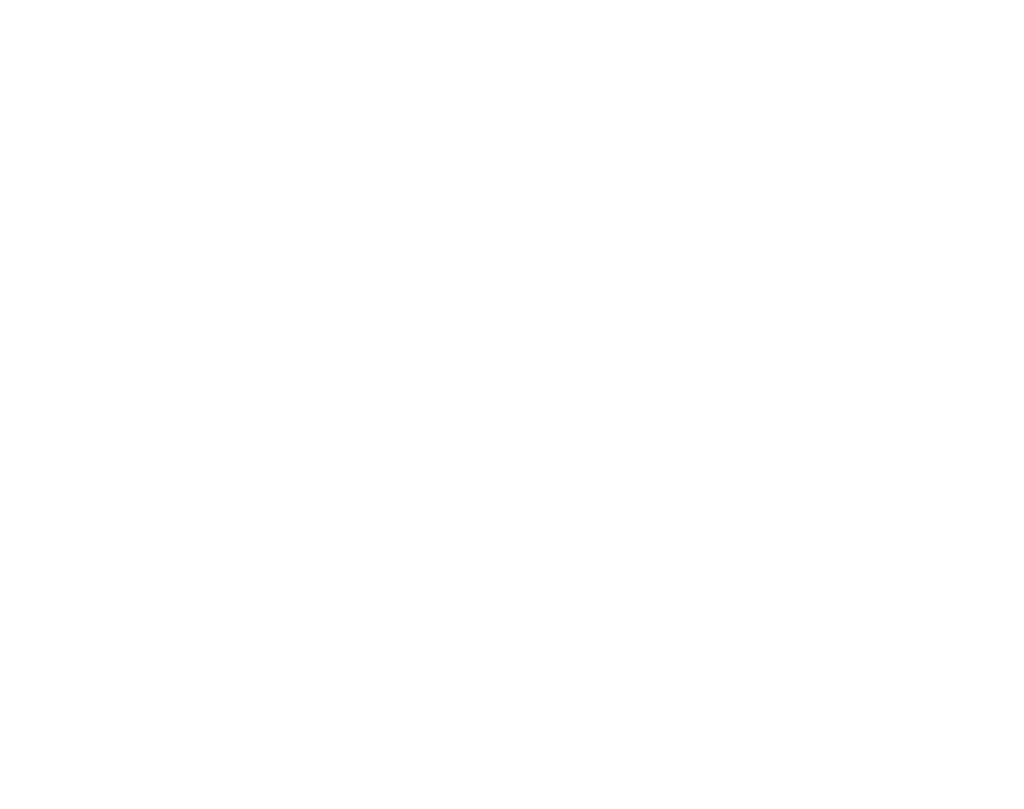
Мы стали забывать, что бытие может любить, говорит философ, ставя
логическое ударение в гераклитовской фразе на слове φιλεῖ. Репрезентации, о которых говорит М. Хайдеггер, стали возможны не без влияния субъектно-объектной парадигмы Нового времени. Однако насколько будет корректна точка зрения вытеснения субъекта, с последующей ориентацией на объект?
Насколько корректен будет вопрос о сущности, когда с точки зрения старого «объекта» всё равно будет вопрошать старый «субъект», и нам, если следовать модели М. Хайдеггера, придется признавать в себе наши психологические мотивы лишь результатом «обытийствования» нас природой?
Одна из моделей культурологического понимания существа человека акцентирует внимание на его способности преобразовании природы (или если угодно «Природы») «под себя», и в этом усматривается «надприродный», и он
же культурный, статус человека. Всё складно.
Но насколько такое преобразование выводит homo на уровень supernatura? Утверждаю — ни насколько, ведь, во-первых, всякий творческий акт человека, включая осмысление, мышление или вообще реальность ментальную, просто
говоря, не превосходит ту «химию» и/или «физику», в рамках которых он
совершается, или говоря философским языком, этот акт уже в мире, или
более шире — он уже в бытии. Во-вторых, ничто не мешает мне согласиться со старой как мир бинарностью (двоицей): возможность — действительность; а значит человек уже бытиен, и если он и может «обытийствовать», то он заранее обытиен сам, и в этом его действительность (энергия).
Всякая попытка осмыслить человеческую суть в частных вопросах его деятельности («политическое существо», «культурное», «символическое» и т. д. до бесконечности) иллюстрирует, в принципе (т. е. в своем собственном начале in principio), правильный опыт поиска общих оснований, с причислением последних к лику сущности.
логическое ударение в гераклитовской фразе на слове φιλεῖ. Репрезентации, о которых говорит М. Хайдеггер, стали возможны не без влияния субъектно-объектной парадигмы Нового времени. Однако насколько будет корректна точка зрения вытеснения субъекта, с последующей ориентацией на объект?
Насколько корректен будет вопрос о сущности, когда с точки зрения старого «объекта» всё равно будет вопрошать старый «субъект», и нам, если следовать модели М. Хайдеггера, придется признавать в себе наши психологические мотивы лишь результатом «обытийствования» нас природой?
Одна из моделей культурологического понимания существа человека акцентирует внимание на его способности преобразовании природы (или если угодно «Природы») «под себя», и в этом усматривается «надприродный», и он
же культурный, статус человека. Всё складно.
Но насколько такое преобразование выводит homo на уровень supernatura? Утверждаю — ни насколько, ведь, во-первых, всякий творческий акт человека, включая осмысление, мышление или вообще реальность ментальную, просто
говоря, не превосходит ту «химию» и/или «физику», в рамках которых он
совершается, или говоря философским языком, этот акт уже в мире, или
более шире — он уже в бытии. Во-вторых, ничто не мешает мне согласиться со старой как мир бинарностью (двоицей): возможность — действительность; а значит человек уже бытиен, и если он и может «обытийствовать», то он заранее обытиен сам, и в этом его действительность (энергия).
Всякая попытка осмыслить человеческую суть в частных вопросах его деятельности («политическое существо», «культурное», «символическое» и т. д. до бесконечности) иллюстрирует, в принципе (т. е. в своем собственном начале in principio), правильный опыт поиска общих оснований, с причислением последних к лику сущности.
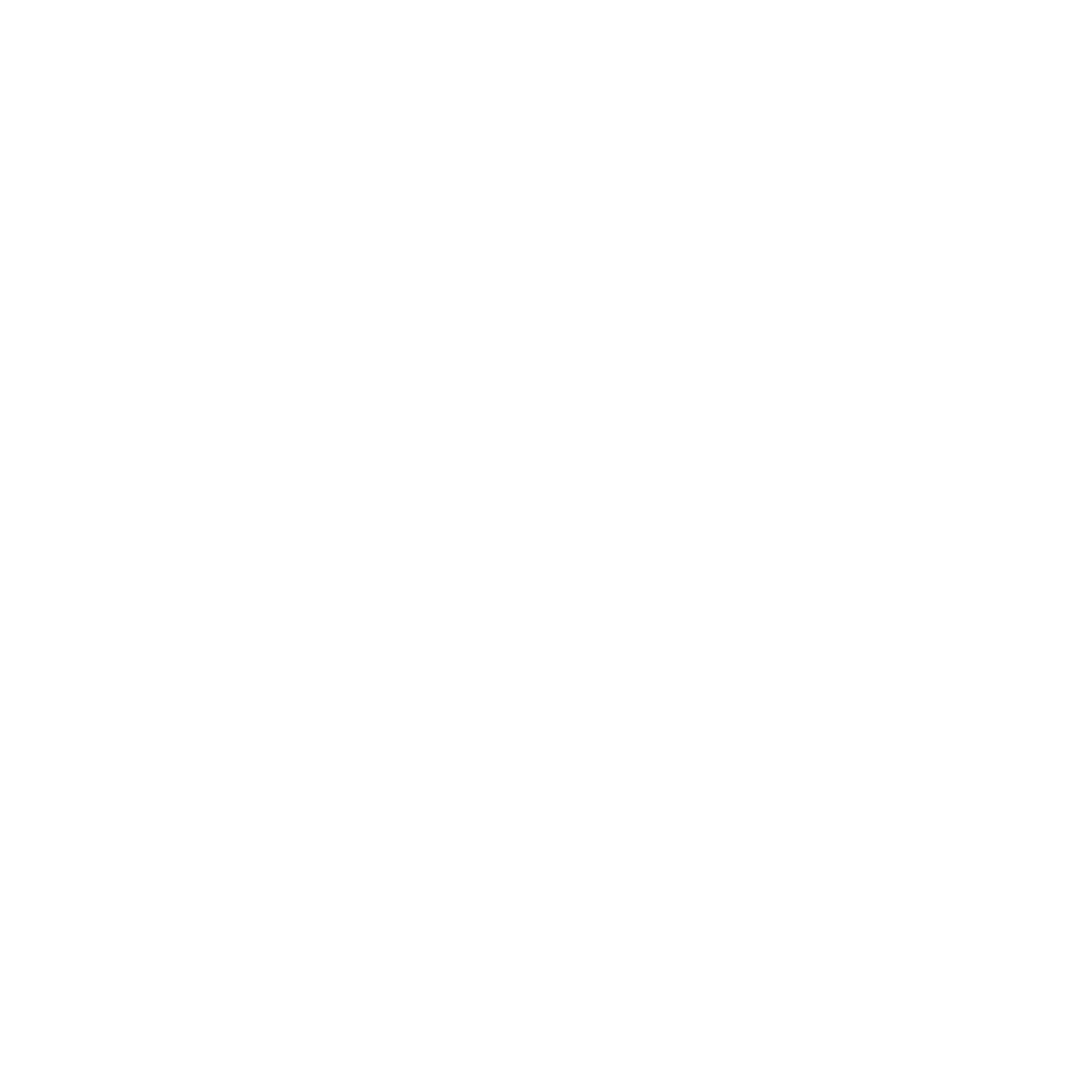
@motiondesigners
Однако такие генерализации раскрывают только привходящие свойства
человека, между тем, его сущность в том, чтó постоянно, в «генерализации генерализаций» — в бытии, в самом его существовании.
Ведь существование есть то, что у homo никогда не отнимешь; жизнь
отнимается (можно было бы добавить к выше обозначенному перечню
«человек существо смертное»), а существование есть само основание
жизни. Парижские аверроисты решили проблему смертности следующим
образом, индивид — конечен, вид — бесконечен (ассоциативно всплывает аналогия с соссюровской бинарностью речь/язык — конкретное/абстрактное).
Но если подойти к индивиду, в намеченных нами пропорциях, то, как мне кажется, трансгуманистическое движение пытается высказать решение конвертирования жизни в существование.
Я имею в виду вопрос о форме сознания на небиологическом субстрате
(по-моему, корректней сказать небиологическую форму на субстрате
сознания). Это новая мифологема? и как отделить плевелы? Именно здесь мы начинаем сталкиваться с техникой как с тем, что, будучи сотворено человеком, может касаться его сущности. В этом вопросе мы подходим к технике не к как отстраненному помощнику, а как к нашему онтологическому продолжению, в котором раскрывается и наше собственное бытие, наше внутреннее an sich sein.
Техника — это всегда единое с человеком, причем не важно, приносила
она ему пользу или вред — и в том, и в другом случае она демонстрировала свой взаимосущий статус. Что же происходило? Техника постоянно врывалась в человека, и неужели сейчас она хочет ворваться окончательно? Однако, по нашему мнению, это необходимый/необратимый/некоторым образом детерминированный акт единения биологической природы человека и его творения (как техники).
Теперь, если выражаться метафорически, техника пойдет дальше и
посвятится в ложу трансцендентальных форм познания, позволяя
человеку через бесконечно большой набор опыта «высветить»
спрятанные сущности (если, конечно, понимать слово «высветить» в том
смысле как новоевропейская наука «высвечивала» законы и тайны
природы). Это может изменить ранее наработанную историческую
схему: человек творит технику, чтобы творить технику.
человека, между тем, его сущность в том, чтó постоянно, в «генерализации генерализаций» — в бытии, в самом его существовании.
Ведь существование есть то, что у homo никогда не отнимешь; жизнь
отнимается (можно было бы добавить к выше обозначенному перечню
«человек существо смертное»), а существование есть само основание
жизни. Парижские аверроисты решили проблему смертности следующим
образом, индивид — конечен, вид — бесконечен (ассоциативно всплывает аналогия с соссюровской бинарностью речь/язык — конкретное/абстрактное).
Но если подойти к индивиду, в намеченных нами пропорциях, то, как мне кажется, трансгуманистическое движение пытается высказать решение конвертирования жизни в существование.
Я имею в виду вопрос о форме сознания на небиологическом субстрате
(по-моему, корректней сказать небиологическую форму на субстрате
сознания). Это новая мифологема? и как отделить плевелы? Именно здесь мы начинаем сталкиваться с техникой как с тем, что, будучи сотворено человеком, может касаться его сущности. В этом вопросе мы подходим к технике не к как отстраненному помощнику, а как к нашему онтологическому продолжению, в котором раскрывается и наше собственное бытие, наше внутреннее an sich sein.
Техника — это всегда единое с человеком, причем не важно, приносила
она ему пользу или вред — и в том, и в другом случае она демонстрировала свой взаимосущий статус. Что же происходило? Техника постоянно врывалась в человека, и неужели сейчас она хочет ворваться окончательно? Однако, по нашему мнению, это необходимый/необратимый/некоторым образом детерминированный акт единения биологической природы человека и его творения (как техники).
Теперь, если выражаться метафорически, техника пойдет дальше и
посвятится в ложу трансцендентальных форм познания, позволяя
человеку через бесконечно большой набор опыта «высветить»
спрятанные сущности (если, конечно, понимать слово «высветить» в том
смысле как новоевропейская наука «высвечивала» законы и тайны
природы). Это может изменить ранее наработанную историческую
схему: человек творит технику, чтобы творить технику.
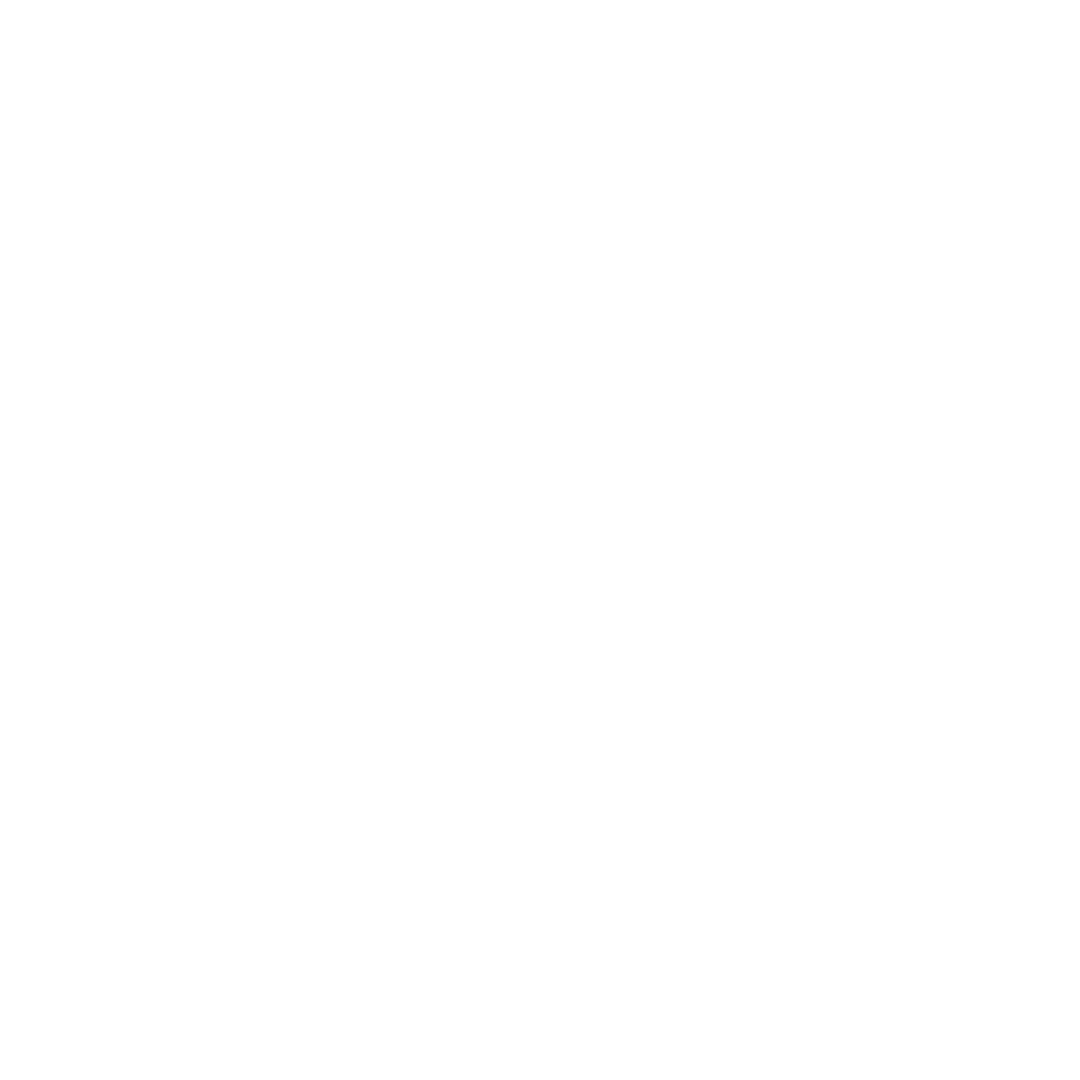
@vacades
Теперь в акте творения человек творит себя. Поворот на самое себя человека как раз и будет точкой свободы от перепроизводства техники-предиката
(придатка), или, другими словами, отказ от безрезультатного (или инфляционного) обмена «технических» знаков, т.е. возврат их из недетерменированного (Ж. Бодрийар) состояния в осмысленную
причинно-следственную последовательность.
Но это никоим образом не значит, что техника зашла в человека. Это принципиально двусторонний процесс; человек и техника в своем единстве идут друг на встречу к другу, и тут скорее сущность человека встроится в технику, чем техника в сущность человека (т. е. Я в техническое, а не техническое в Я, поскольку, если доверять субъектной парадигме, то последняя ситуация невозможна по причине непротяженности Я).
Обретя безусловное и уже даже интеллигибельно непреодолимое единство (сингулярность), человек уже принципиально не сможет преодолеть себя, поскольку его бытие станет бытием техническим, но техническое здесь будет являться только предикатом, ведь существенность человека всегда будет обитать в форме Я. Техническое бытие обретется при полном контроле над миром материи.
(придатка), или, другими словами, отказ от безрезультатного (или инфляционного) обмена «технических» знаков, т.е. возврат их из недетерменированного (Ж. Бодрийар) состояния в осмысленную
причинно-следственную последовательность.
Но это никоим образом не значит, что техника зашла в человека. Это принципиально двусторонний процесс; человек и техника в своем единстве идут друг на встречу к другу, и тут скорее сущность человека встроится в технику, чем техника в сущность человека (т. е. Я в техническое, а не техническое в Я, поскольку, если доверять субъектной парадигме, то последняя ситуация невозможна по причине непротяженности Я).
Обретя безусловное и уже даже интеллигибельно непреодолимое единство (сингулярность), человек уже принципиально не сможет преодолеть себя, поскольку его бытие станет бытием техническим, но техническое здесь будет являться только предикатом, ведь существенность человека всегда будет обитать в форме Я. Техническое бытие обретется при полном контроле над миром материи.
Теперь в акте творения человек творит себя.
Это фантастика? Быть может; к слову Э. Ильенков полагал, что разум
зародился во Вселенной для того, чтобы остановить её тепловую смерть. Подкрепим тезис рационально: 1. Мы имеем контроль над малой
частью Вселенной; 2. Эмпирически мы наблюдаем постепенный рост нашего контроля; 3. Предположим Вселенная конечна; 4. Следовательно, возможен полный контроль.
Выход технического из состояния предикации станет возможным тогда, когда достигнет такой близости к Я, что сможет предоставить для него другой материал осмысления воображения, ощущения и т. д., т. е. всего того, что
составляет существенные элементы Я. Ведь если отталкиваться от декартовского понимания того, что в последующем назовут «субъект»
(или в его варианте «вещь мыслящая»), то стоит признать, что техническое бытие не может повлиять на человека как такового. Когда в диалоге «Разыскание истины...» Евдокс показал Полиандру, что его Я — это ни руки, ни тело и никакой другой элемент его корпуса, в котором возможно сомнение, и затем спросил: что же это такое, его сомневающееся Я? Тогда Евдокс получил ответ запутавшегося Полиандра, что Я — это человек.
Безусловно, такой ответ не устроил Евдокса. Вскоре он объяснил Полиандру, и последний осознал, что то я, которое он ранее ассоциировал со своим телом, нисколько не является тем непротяженным Я, о котором говорит Евдокс. Этот урок Полиарда свидетельствует, что декартовское Я нисколько не противоречит тому, что «человечность человека» возможна и на небиологическом
субстрате. Такое отношение Я к своему техническому не противоречит
мнению М. Хайдеггер, а именно: человек является «господином бытия»;
ведь как мы показали, его сущность есть само бытие.
зародился во Вселенной для того, чтобы остановить её тепловую смерть. Подкрепим тезис рационально: 1. Мы имеем контроль над малой
частью Вселенной; 2. Эмпирически мы наблюдаем постепенный рост нашего контроля; 3. Предположим Вселенная конечна; 4. Следовательно, возможен полный контроль.
Выход технического из состояния предикации станет возможным тогда, когда достигнет такой близости к Я, что сможет предоставить для него другой материал осмысления воображения, ощущения и т. д., т. е. всего того, что
составляет существенные элементы Я. Ведь если отталкиваться от декартовского понимания того, что в последующем назовут «субъект»
(или в его варианте «вещь мыслящая»), то стоит признать, что техническое бытие не может повлиять на человека как такового. Когда в диалоге «Разыскание истины...» Евдокс показал Полиандру, что его Я — это ни руки, ни тело и никакой другой элемент его корпуса, в котором возможно сомнение, и затем спросил: что же это такое, его сомневающееся Я? Тогда Евдокс получил ответ запутавшегося Полиандра, что Я — это человек.
Безусловно, такой ответ не устроил Евдокса. Вскоре он объяснил Полиандру, и последний осознал, что то я, которое он ранее ассоциировал со своим телом, нисколько не является тем непротяженным Я, о котором говорит Евдокс. Этот урок Полиарда свидетельствует, что декартовское Я нисколько не противоречит тому, что «человечность человека» возможна и на небиологическом
субстрате. Такое отношение Я к своему техническому не противоречит
мнению М. Хайдеггер, а именно: человек является «господином бытия»;
ведь как мы показали, его сущность есть само бытие.
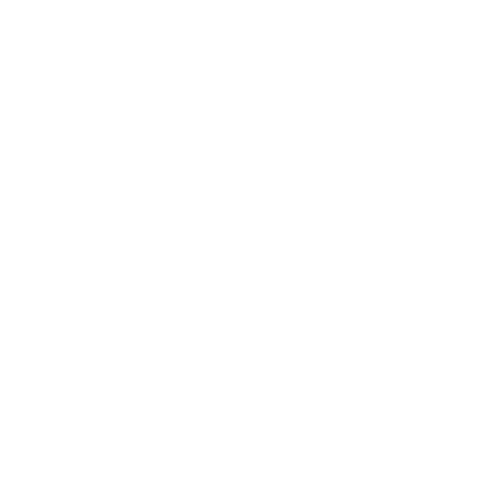
@gilvasunner
Ещё раз. Возможность мыслить сущность человека через его
привходящие свойства невозможна, поскольку сущность есть то, что
существует само по себе. Таким образом, указание на случайное в
человеческом бытии, и попытка осмыслить это как существенное
некорректна («человек существо социальное», «биологическое»,
«символическое» и т.д.).
Все эти характеристики верны, но они не исчерпывают человеческое как целое, ведь сущность необходимо помыслить в самом широком схватывании: «человек (или Я Декарта) "существо"; существующее». На первый взгляд такое высказывание кажется тавтологическим, но именно такой подход позволяет нам увидеть человека как такового, именно в его сущности, или другими
словами, «сущего как сущего» τὸ ὂν ᾗ ὄν [Aristotle. Met. Γ. 1003 a I].
привходящие свойства невозможна, поскольку сущность есть то, что
существует само по себе. Таким образом, указание на случайное в
человеческом бытии, и попытка осмыслить это как существенное
некорректна («человек существо социальное», «биологическое»,
«символическое» и т.д.).
Все эти характеристики верны, но они не исчерпывают человеческое как целое, ведь сущность необходимо помыслить в самом широком схватывании: «человек (или Я Декарта) "существо"; существующее». На первый взгляд такое высказывание кажется тавтологическим, но именно такой подход позволяет нам увидеть человека как такового, именно в его сущности, или другими
словами, «сущего как сущего» τὸ ὂν ᾗ ὄν [Aristotle. Met. Γ. 1003 a I].
Библиография
1. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. [с нем. и примеч.] В. В.
Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997
2. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических
теокосмогоний до возникновения атомистики / Изд. подг. А. В.
Лебедев. М.: Наука, 1989
3. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие (статьи и
выступления) М.: Республика, 1993
1. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. [с нем. и примеч.] В. В.
Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997
2. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических
теокосмогоний до возникновения атомистики / Изд. подг. А. В.
Лебедев. М.: Наука, 1989
3. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие (статьи и
выступления) М.: Республика, 1993
Автор: Михаил Щербаков
